В 1915 г. на выставке с необычным названием «0,10» Казимир Малевич представил свой знаменитый «Черный квадрат», споры о котором не утихают до сих пор. Картина произвела фурор на десятилетия вперед и стала знаком нового направления в искусстве, изобретенного самим К. Малевичем – супрематизма.
Это слово у всех на слуху, но что же оно толком обозначает? По К. Малевичу, супрематизм (от лат. supremus – «высший, крайний») – это сама суть живописи и природы, прежде скрывавшаяся за маской изображения различных предметов: неба, облаков, деревьев, цветов, животных, людей. Супрематисты работают с простыми геометрическими фигурами, плоскими, как сам холст – линиями, прямоугольниками, треугольниками, кругами. Тонким переливам оттенков они предпочитают основные цвета радуги: красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый – и не-цвета: черный и белый.
В супрематизме К. Малевич видел «разрешение всех вопросов», которые веками волновали художников. Он писал, что «преобразился в нуле форм и вышел за нуль к творчеству, т.е. к супрематизму».
Однако супрематизм оказался лишь эпизодом творческого пути мастера. В 1918 г. К. Малевич исполнил на этот раз уже «Белый квадрат» («Белое на белом») и объявил, что прекращает заниматься живописью (и действительно, несколько лет он картины не писал, погрузившись в преподавание). Далее последовали совсем иные живописные искания, а в конце жизни художник вообще написал автопортрет по всем ренессансным канонам. Однако супрематизм остался жить уже вне творчества своего создателя.
Жив он и до сих пор и продолжает будоражить умы как широкой публики, недоумевающей, почему «Черный квадрат» объявлен шедевром и вообще почитается как искусство, так и художников, исследующих традицию. Одним из тех, кто тоже решил обратиться к супрематическим поискам и предложить свою собственную трактовку явления, стал Александр Попов.
Его нельзя назвать каким-то строгим последователем К. Малевича, он не верный его ученик, а, скорее, любопытствующий экспериментатор, который решил попробовать свои силы и в этом стиле.
Для А. Попова супрематизм – его признаки и сам термин – становятся поводом для остроумной шутки. Там, где К. Малевич серьезен, А. Попов ироничен.
Он заимствует лишь некоторые принципы беспредметной живописи К. Малевича, которые знакомы каждому – сложное название, простые геометрические фигуры на плоскости, – но решает их совершенно по-своему.
Термин «супрематизм» у А. Попова за счет одной-единственной буквы меняется на шутливое выдуманное слово «супревматизм». Соответственно, круги у А. Попова превращаются в тарелки для супа, прямоугольники – в крышку и ножки кухонного стола, треугольники – в салфетки, а ножи словно скручены от боли: их «прихватило».
Иногда художник в своих абстрактных рисунках обращается даже не к К. Малевичу, а к его оппоненту – Александру Родченко, который тоже создавал супрематические работы, а потом прославился как фотограф. «Белому на белом» К. Малевича А. Родченко противопоставляет серию «Черное на черном». В «Абстракции № 10» А. Попов занят приблизительно той же задачей. Он изображает часть круга, треугольник и прямоугольник различных оттенков черного на черном фоне. Выделяет он их чуть более прямолинейно, высвечивая фигуры синим сиянием, как будто они флуоресцентны.
О А. Родченко принято писать, что его увлекало взаимопроникновение плоскостей и пространства. Это взаимопроникновение превращается у А. Попова в оптическую иллюзию: в «Абстракции № 1» лист бумаги поделен на прямоугольники, и при этом каждый прямоугольник переливается так, словно он находится под углом к поверхности работы, хотя все они вроде бы сомкнутые, совершенно плоские и должны соединяться в единую ровную поверхность, параллельную листу.
А. Попов в своих играх с супрематизмом движется обратно к предметной живописи. Простые геометрические фигуры становятся кухонной утварью или грифельной доской (как в «Абстракции № 12). Иногда они приобретают какое-то неестественное сияние медузы на дне океана. Художник усложняет цвет: отказывается от красного, белого, черного, синего и выбирает нежные лиловые оттенки, пастельные серые и бежевые. Живописец обращается с супрематизмом не всерьез, а как бы понарошку. Он берет его узнаваемые черты, его оболочку, однако идеи К. Малевича А. Попову совершенно не важны. Это художник иного поколения, иной эпохи, который смотрит на прошлое с мягкой ироничной улыбкой и превращает его в анекдот.

Автор: Анастасия Курьянова / Искусствовед
Аспирантка программы «История и теория культуры, искусств» Европейского университета в Санкт-Петербурге, выпускница искусствоведческих программ магистратуры и бакалавриата НИУ ВШЭ в Москве, участница всероссийских и международных научных конференций в области истории искусств.
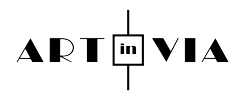

Статьи об искусстве
Пара старых башмаков: привет Ван Гогу
А. Попов в своей серии натюрмортов «Дело в шляпе» обыгрывает простой мотив – темную шляпу [...]
Апр
Выставки художника
Выставка «Гастроном» Александр Попов в Grand Palais. Париж 1992 год
Продолжение однодневной выставки «Гастроном», которая прошла в 1990 в Москве. В 1992 экспозиция «Гастроном» была [...]
Май
Статьи об искусстве
Небольшая фигурка пионерки: в поисках утраченного объема
В каждом полотне серии «Пионерка», вращающейся вокруг статуэтки юной скрипачки, художника занимают различные живописные задачи. [...]
Май
Статьи об искусстве
Натюрморт с кофейником. Гармония контрастов
Сюжетно натюрморт А. Попова с красными перцами, синим кофейником и бидоном и желто-зелеными фруктами напоминает [...]
Авг
Статьи об искусстве
Три безликие фигуры на картине. Загадочность судьбы
Первую картину на мотив трех фигур А. Попов исполнил в 1985 г. Художник переживал творческий [...]
Окт
Выставки художника
Выставка на Гоголевском бульваре уличная акция Попова. Москва 1974 год
Александр Попов в московской выставке предстает не только как живописец, но и как художник, разрабатывающий [...]
Май