Творчество американского писателя XX века Чарльза Буковски, представителя так называемого «грязного реализма», не оставляет никого равнодушным. Его книги либо ненавидят, либо превозносят. Их с омерзением выбрасывают или, напротив, без конца перечитывают. То, что для одних пошлость ради пошлости, для других – обнаженная искренность и честность. Герои Буковски вызывают либо сочувствие, потому что в их мыслях и переживаниях читатели узнают свои собственные, либо отторжение – иногда по той же самой причине.
Среди живописцев тоже можно обнаружить своего рода адептов «грязного реализма», чья оптика настроена как у Ч. Буковски.
Так, художник Александр Попов, представитель иного поколения и иного общества, в своем творчестве часто поднимает те же темы, что и американский писатель, и в целом они во многом совпадают в своем видении мира.
Ключевым лейтмотивом творчества обоих становится тема смерти. «А я ношу смерть в левом кармане», – пишет Ч. Буковски. В искусстве А. Попова тоже постоянно встречаются образы, традиционно связанные со смертью, – автопортрет в противогазе с пистолетом у виска, черепа, зияющие пустыми глазницами вместо лиц полногрудых дам сомнительной профессии, и груды костей. Соединяя пышные тела, вызывающие позы и скелеты, живописец фактически воспроизводит мотив Эроса и Танатоса, влечения к жизни и влечения к смерти – на страницах книг Ч. Буковски похожим образом перемешаны алкоголь, женщины, пьяный угар, мысли о смерти и экзистенциальная философия в духе Сартра. Тему смерти А. Попов раскрывает и через европейскую художественную традицию memento mori, «помни о смерти», вкрапляя в свои натюрморты, как голландские мастера 17-го века, черепа – художник пользуется средствами, свойственными именно живописи как визуальному виду искусства, однако и в книгах Ч. Буковски, и в картинах А. Попова смерть, несмотря на свое обличье, постоянно ходит рядом. И они от нее не бегут, она им интересна.
Оба – и писатель, и живописец – бунтари, провокаторы. Они пишут без цензуры. Причем А. Попов откровенен и в образах, и в словах, которые он внедряет в живописную ткань своих картин.
Для него важно и значение фраз, и их форма, то, как они выглядят: иногда художник выбирает более геометризованный шрифт, иногда подражает непристойным настенным надписям и неловкости букв, нацарапанных на стене. Нецензурная брань становится для обоих своего рода «пунктумом», если пользоваться терминологией французского литературоведа и философа Ролана Барта: чем-то, что цепляет, колет, задерживает взгляд и, раздражая, не дает забыть. И художник, и писатель даже пишут похоже: лаконично, наотмашь, короткими предложениями или экономными мазками.
И Буковски, и Попов производят впечатление мизантропов. Автопортрет художника с пистолетом у виска в противогазе открыто говорит о том, как осточертела ему неприглядная реальность. Оба – ее язвительные, едкие комментаторы. Их юмор груб и сатиричен, а манера – агрессивна. Но одновременно у обоих незримо проскальзывает какая-то нежность, смешанная с грязью повседневности – оборотная сторона ранимости и чувствительности, свойственным многим художникам. Ч. Буковски может внезапно среди тонны описываемого шлака упомянуть, что его спасли «книги, розы, 9 кошек», а А. Попов – растворить кости в мареве тонких, рафинированных оттенков, вписать крючковатые белесые формы в ритмику узоров алого восточного ковра. Его городские виды исполнены сентиментальной интонации, а серия с тремя фигурами – неуловимый мираж, видение, что-то утонченное и даже эстетское.
Любопытно, что успех пришел к Ч. Буковски лишь в зрелом возрасте – но писал он с молодости и даже после длительных перерывов и отсутствия признания все равно продолжал писать. Точно так же и А. Попов творил, несмотря на критику и непонимание, потому что не мог не творить. Мастера оказываются похожи не только в манере, подаче, любви к иронии, лишающей все высокое – и литературу, и живопись – наносного пафоса, в отсутствии розовых очков, в темах, которые их волнуют, но и в видении процесса творчества, в своей преданности искусству.

Автор: Анастасия Курьянова / Искусствовед
Аспирантка программы «История и теория культуры, искусств» Европейского университета в Санкт-Петербурге, выпускница искусствоведческих программ магистратуры и бакалавриата НИУ ВШЭ в Москве, участница всероссийских и международных научных конференций в области истории искусств.
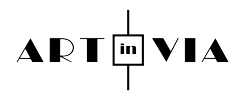

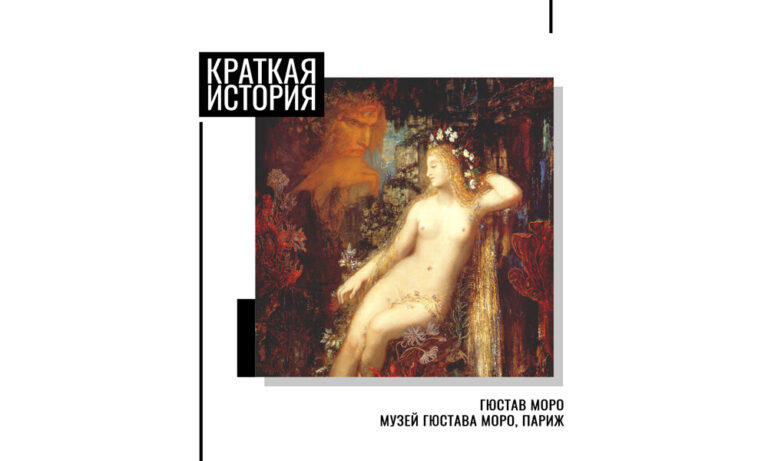





Интересный обзор, но хотелось бы побольше узнать о художнике и посмотреть его работы по теме
Можете, например, посмотреть серию с девочками, в разделе ню
Мне кажется, что здесь имеет место ярко выраженный философский контекст, а именно — любовь к мудрости, осмыслению жизни цепляющими до беспощадности ассоциациями, игрой их, но при этом обыденными предметами naturе morte («мëртвой природы»).
Свежий взгляд. Не могу с вами не согласиться