Античность на протяжении столетий не перестает волновать воображение художников. А. Попов, в творчестве которого нередки примеры интерпретации предшествующей традиции, предложил в ряде картин свою трактовку античной тематики. Античный флер он придал своему излюбленному мотиву трех женских фигур, разрабатываемому художником неоднократно в самых разнообразных вариантах. Его героини представали в японском кимоно и платьях 19-го века, на берегу моря и лесного озера. В картине «№ 5. Вера. Надежда. Любовь» мастер запечатлел их в образе античных статуй: более полновесными, покатыми, в контрапосте, облаченными в струящиеся драпированные одежды.
Художник заключил лаконичную композицию в живописную иллюзионистическую раму, расписанную «под мрамор». В произведении четко выделяются три плана: узкий проскениум, на котором стоят фигуры, широкая лазурная полоса, напоминающая море – посреди нее виднеется призрачный, как мираж, храм с треугольным фронтоном, – узкий дальний план неба с тающим в мазках, как масло, полукругом солнца. У левого края картины можно заметить зеленовато-голубоватую «свечку» кипариса, которая выступает в качестве намека на кулису. Композиция театральна, устойчива, размеренна, в ней есть внутренний неспешный ритм.
Рисунок в работе практически отсутствует, форму «лепит» цвет и непосредственно фактура мазка. Художник привносит в живописное произведение элемент скульптурного рельефа: он буквально вылепляет и высекает объемы и складки одежд из плотной краски.
Кроме того, мастер как бы обводит фигуры узкой полосой пустого, незаполненного холста, чтобы сделать их еще более выпуклыми, выделить на фоне более тонкой пленки мазков.
Нежная, деликатная палитра – персиковые, голубоватые, зеленоватые, лиловые, – общая разбеленность оттенков создают поэтичное, лирическое настроение, ощущение сна, окутанного дымкой. Из-за игры палитры и текстуры красочного слоя картина словно переливается, искрится, как вода, по которой рассыпаны солнечные блики.
Те же приемы лепки формы краской и рельефным мазком можно наблюдать в «Греческом сюжете» и «Театре древней Греции».
В них действие вновь разворачивается на фоне периптера, т.е. античного храма, обведенного колоннадой, но главным действующим лицом становится толпа, а не три застывшие фигуры. В «Греческом сюжете» храм нависает над людьми, позади расстилается море, большую долю пространства составляет пейзаж; в «Театре древней Греции» шествие с конями занимает почти весь прямоугольник холста. Картины приобретают больше динамики за счет эффекта волнующейся толпы, диагоналей фигур, шага лошадей и процессии.
Картинка Ни лица персонажей, ни их позы почти не различимы. Мазок еще шире, а образ отвлеченнее, чем в картине с тремя женскими фигурами. Каждый мазок – это отдельный вихрь краски, калейдоскоп оттенков. Палитра и «Греческого сюжета», и особенно «Театра древней Греции» более яркая, насыщенная, в нее вкраплены красноватые, темно-синие и темно-зеленые. Мускулатуру лошадей, людей, складки одежды мастер вновь «формует» жирным, открытым мазком.
Античная тематика в интерпретации А. Попова – лишь повод для художественной игры. Живописец не погружается в аналитическую трактовку античной культуры, своеобразный антикварианизм, он, напротив, жонглирует узнаваемыми образами, трансформируя их и перемешивая, его занимает скорее внешняя форма, нежели тянущиеся за ней культурные аллюзии.
Обыгрывание античной культуры, знание о которой издавна считается показателем престижа, чем-то элитарным, характерно для постмодернистского видения художника. Своим сознательно легкомысленным подходом А. Попов опрокидывает академическую иерархию – на верхушке академического искусства долгое время была историческая картина, которая часто выполнялась на античный сюжет. Мастер, в противоположность традиции, выбирает небольшой формат, анонимность (лица стерты, неразличимы), намеренную небрежность, широту кисти (академическая картина требовала тщательной, дотошной проработки), разбеленную, неясную палитру. Античные образы становятся для художника полигоном исследования волнующих его живописных проблем – проблем цвета и возможностей фактуры.

Автор: Анастасия Курьянова / Искусствовед
Аспирантка программы «История и теория культуры, искусств» Европейского университета в Санкт-Петербурге, выпускница искусствоведческих программ магистратуры и бакалавриата НИУ ВШЭ в Москве, участница всероссийских и международных научных конференций в области истории искусств.
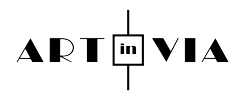

Статьи об искусстве
Правильно ли теоретики культуры смотрят на искусство?
До 1980-х гг. искусство народов Африки, Австралии, Океании, Мезоамерики называли примитивным, и в этом определении [...]
1 Комментарий
Май
История картины
Миллион алых роз. Цветочный символизм в картинах
Цветы – невероятно популярный мотив в живописи. Они встречаются в портретах, натюрмортах, картинах на религиозные [...]
Сен
Истории из жизни
Самая известная художница Кореи
Син Саимдан (1504-1551) – это, пожалуй, самая известная корейская художница. Она стала первой женщиной, чей [...]
Авг
Статьи об искусстве
Экспрессионизм. Нервы на пределе
Яркие цвета, острые углы, искаженные формы, уплощенность, гротеск – это те черты, которые отличают живопись [...]
Окт
Искусство понимать
Что такое художественный контекст и зачем он нужен при анализе картин?
Для того чтобы как можно полнее проанализировать произведение искусства, необходимо погрузить его в самые разные [...]
Июл
Выставки художника
Художник Александр Попов в Эрмитаже. Выставка коллекции Жоржа Мачере
В 2012 году с 29 июня по 22 июля в Государственном Эрмитаже прошла выставка «848. [...]
Май